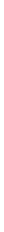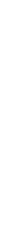ЛЮБИ ЕЁ
Повесть
В эту ночь Аврааму не спалось. Беспокойно ворочалась во сне жена. Стараясь не разбудить её, он тихо поднялся, накинул халат и вышел на балкон. Город отдыхал, погрузившись в дивное состояние полудрёмы. На небе не проглядывалось ни единой звёздочки. Было облачно, мрачно и зябко, начинался дождь. Казалось, что вот-вот раздастся злобный рык огромного зверя, готового наброситься на облюбованную жертву. Ветер раскачивал ветки деревьев, которые, словно живые, исполняли замысловатые па под аккомпанемент внезапно начавшегося дождя.
Где-то завыла сирена машины скорой помощи, и тут же пришло решение: «Надо посоветоваться с раввином».
Благодатный дождь усиливался, и Авраам, поёжившись, возвратился в спальню.
Наутро, он, полный решимости, торжественно облачившись в талит гадоль, а затем в тефелин, отправился в синагогу.
- Как хороши шатры Твои…
А в сердце неотвязно, вослед за обязательными словами молитвы, бился, пульсировал, не давал сосредоточиться неотступный вопрос, который Авраам позже задал раву:
- Что мне делать? Моя утерянная когда-то и вновь обретённая дочь - христианка! Она не знает традиций нашего народа. Кровь от крови моей, и плоть от плоти моей исповедует другую религию! Как же так? Посоветуй мне, как я должен поступить?
- Люби её! – услышал он краткий ответ.
Авраам, не веря своим ушам, ещё раз взглянул на раввина, и тот утвердительно кивнув головой, добавил:
- В любви заложена великая сила!
Авраам, слегка припадая на ногу (беспокоила старая рана), задумчиво шёл по улице.
В воздухе витал аромат свежести, а на небе не было ни облачка. Даже не верилось, что ночью над городом мрачными знаками судьбы нависали свинцовые тяжёлые тучи.
Чуть сгорбленный под тяжестью лет, уже давно отчасти седой, а отчасти полысевший, но всё ещё сохранивший на лице следы суровой мужественности, Авраам медленно брёл по улицам давно ставшего для него родным города.
А память, словно морская волна, подхватившая внезапно попавшую в её власть соломенную шляпу, понесла и понесла его в своих объятиях навстречу далёкому прошлому…
Перед входом на призывной пункт собралась толпа провожающих. Кто-то пришёл с гармошкой, будучи навеселе, и не совсем послушными пальцами, наигрывал весёлую мелодию. Большинство собравшихся составляли плачущие и охающие женщины: матери, невесты, жёны призывников.
Своих родителей Аркадий чуть ли не на коленях умолял не провожать его дальше родного двора. Во дворе и состоялось прощание с соседями и родными, дававшими шутливые напутствия, а также с мамой, почему-то не перестающей плакать, и отцом, внезапно охрипшим голосом, прошептавшим благословение.
Провожать его дальше отправилась только его юная жена Сара. Она была молчалива. Лишь в глубине таких родных, чуть подёрнутых поволокой тёмно-карих глаз, таилась нежность, непонятным образом сливаясь с непередаваемой печалью вечности. Стройная и неестественно бледная, с толстой тёмно-каштанового цвета косой, она лишь неотрывно смотрела в глаза Аркадия, словно пытаясь вобрать в себя дорогой сердцу образ.
- А она сильнее, чем я думал, - мелькнула внезапно пришедшая мысль, тут же вытесненная другой, тревожной и волнующей:
- Как же она справится без меня?!
Несколько дней назад Аркадий узнал, что у них будет ребёнок! Он станет отцом! Радость, гордость, счастье и безотчётная тревога, всё вместе соединилось в единый поток – как же он любил её!
Делая предложение этой целиком завладевшей его сердцем девушке, Аркадий знал, что не за горами призыв в армию. Такая ранняя женитьба для юноши его возраста была делом неслыханным! Но сердцу ведь не прикажешь.
Как вихрь, ворвался в души молодых людей праздник всепоглощающих чувств! Они обволакивали, ласкали, с нарастающим блаженством страсти, желания раствориться друг в друге, сливаясь в одно неделимое целое.
Даже их родители, категорически возражавшие вначале против непозволительно раннего брака, сдались. Вопреки всем трезвым рассуждениям, предполагавшим не торопиться (ну кто ж до армии женится?), пленённые восторженностью светлых чувств юности, они дали своё «добро».
«Один раз в жизни счастье стучит в дверь каждого, - писал Марк Твен, - но часто этот каждый сидит в соседнем кабачке и не слышит стука».
Аркадий по кабачкам не ходил. Он слышал стук и был счастлив. Но почему так сжало сердце?
Сара должна родить в конце года. Где же он будет в это время? Удастся ли выпросить хоть на день увольнительную? – неотступной цепочкой вились тревожные мысли, тут же сменяясь щемящим сладким чувством, заставляющим ещё и ещё раз вдыхать свежий запах вербены и чего-то глубоко родного, исходящего от волос любимой. Аркадий прижал молодую жену к груди. Так, молча, они и стояли, не замечая никого и ничего вокруг.
Внезапно раздался голос: « Прощайтесь! Всим прызывныкам зибратысь биля входу!»
- Береги себя, родная моя! Береги нашего малыша! – дрогнувшим голосом произнёс Аркадий, в последний раз, целуя возлюбленную и, не оборачиваясь, направился к строящейся уже шеренге.
- Авраам! – прозвучало внезапно за спиной. Это было его настоящее имя, впоследствии, с целью предотвращения сложностей, неизменно возникающих при его произношении в быту, изменённое на «Аркадий». Вздрогнув, он обернулся.
- Я люблю тебя! Мы любим тебя! Пиши!– крикнула на прощанье Сара, непроизвольно прижав руку к ещё совсем не выделяющемуся животу.
- Я тоже! – смахнув набежавшую внезапно слезу, прокричал Аркадий.
А через месяц на их страну обрушилась война, ворвавшаяся каскадами бомб, жестокостью концлагерей, сиротством обездоленных детей, расстрелами мирного населения и повсеместным, массовым уничтожением людей, прежде всего евреев.
* * *
Лучи заходящего солнца мягко струились сквозь уже изрядно поредевшую листву, облагораживая своей позолотой верхушки пожелтевших деревьев. Стоял на удивление тёплый осенний день. Клавдия устало опустилась на скамейку, положив рядом тяжёлую авоську с продуктами, рассеяно наблюдая за тонкой паутинкой бабьего лета, зацепившегося за ветку берёзы. Что-то это ей напоминает, но нить, которую она пытается уловить ускользает, и смутная тревога закрадывается в сердце.
Да и сон сегодня приснился странный. Как бы с мамой чего не случилось.
Мама уже несколько месяцев болела. Страдала молча, не жалуясь. Она часто сидела возле окна, наблюдая за прохожими каким-то отстранённым взглядом. Старушка таяла, словно свеча, с каждым днём становясь худее и словно бы прозрачнее. Не раз Клавдия ловила на себе её любящий и вместе с тем пытливый, сеющий в душу зёрна непередаваемой тоски взгляд.
И тогда на Клаву накатывала волна ни с чем не сравнимого беспокойства. А вчера прямо с утра мама неожиданно попросила позвать священника и долго исповедовалась, приняв причастие. После его ухода выглядела уставшей, но какой-то просветлённой. А вот ночью вновь стонала вначале громче, а потом приглушенно, видимо, боясь их разбудить.
- Ох, чует моё сердце, что-то неладно, - прошептала женщина и, рывком поднявшись со скамейки и забрав свою поклажу, засеменила к находящемуся напротив дому.
Мама стояла возле кровати, опираясь рукой на тумбочку, и выглядела бодрее обычного.
- Привет! – с порога произнесла Клава. - Мама, вы зачем поднялись? Вы ведь знаете, что врач запретил вам ходить.
- Ничего, дочка, мне лучше, - ответила Степанида.
- Хотите чаю? – спросила Клава, вешая на плечики лёгкое манто.- Я мигом, - не дожидаясь ответа, произнесла она, направляясь на кухню.
- Клава! – позвала Степанида, - не хлопочи. Иди сюда, доченька. Я хочу тебе что-то сказать.
Уловив незнакомую ноту в голосе мамы, Клавдия настороженно выглянула из кухни. Мама нетерпеливо произнесла:
- Я хочу с тобой поговорить, пока нам никто не мешает. Скоро Григорий придёт с работы, да и Оля уже вот-вот появится.
Обеспокоенная, Клава подошла к матери, заглянула в глаза, и внезапный озноб пронзил всё её естество.
- Сядь, Клава, - произнесла, как показалось женщине, торжественно, но вместе с тем как-то боязливо и виновато, опускаясь на кровать, Степанида. - Сил моих больше нет хранить в себе эту тайну. Даже батюшку не послушалась, он давно советовал открыть тебе правду.
Мать на мгновение прикрыла глаза, затем, повернувшись всем своим худеньким телом к дочери, произнесла:
- Не я родила тебя, Клавонька… приёмная ты, дочка!
- Что?! Что вы такое говорите, мама? – непонятная дрожь наполнила каждый участок тела потрясённой женщины, от кончиков пальцев на руках и до ступней ног…
- Ухожу я,… недолго мне осталось, - тихим голосом, но уверенно произнесла Степанида. - Выслушай, дитя моё. Христом Богом молю тебя! Освободи мою грешную душу от тяжкого бремени! Слушай…
Степанида выросла в многодетной крестьянской семье. Голубоглазая, с косой цвета спелой пшеницы, девушка выделялась из толпы своих сверстников удивительной для её возраста решительностью.
Её гибкое тело, казалось, не знало устали. Она помогала матери управляться по хозяйству, присматривала за младшими братьями и сёстрами, её приметный голубой в белый горошек платочек мелькал то в поле, то на речке, где девушка стирала бельё, то в центре села возле лавки (так они называли местный магазинчик).
На эту стройную, как белокурая берёзка, девушку и обратил своё внимание весёлый балагур и неисправимый ловелас Иван.
Какими только хитроумными методами он не пытался привлечь внимание, стойко не желавшей замечать его девушки! То вечером под окнами «соловьиный» концерт устроит, высвистывая на все лады, то стебелёк незабудки, сорванный на лугу и примятый в кармане (чтобы никто не заметил) поднесёт. А нередко, неожиданно появится возле колодца именно в тот момент, когда Степанида с коромыслом через плечо, придёт набрать воды. И тогда, не обращая внимания на протесты своей так и брызжущей озорными огоньками васильковых глаз пассии, Иван набирал полные вёдра воды, и нёс их к её дому, нередко получая шуточные удары по плечам, оставшимся в руках девушки коромыслом.
С детства приученная к труду и ответственности, почти всегда умеющая настоять на своём, что свидетельствовало о силе характера, Степанида, вместе с тем, обладала глубоко уязвимой и отзывчивой натурой. Казалось, что это качество никак не вписывается в её характер. Эта синеглазая девушка из живописного полесского села всем своим сердцем впитала жемчужную невинность утренних рос. Вместе с каплями материнского молока влилась в душу полисяночки таинственная сила малахитовой зелени лесов, среди которых она выросла. А вот выразить этого она не умела и прятала за напускным безразличием.
Но как же трепетало, пело в незнакомом ранее ритме сердечко после встреч с высоким кудрявым Иваном, за которым «сохли» девчата половины села.
Как-то под окнами их старенькой, утопающей в мальвах хаты, прозвучала, проникая в самую глубь души, песня:
Ты нэ лякайся, що змэрзнэш, лэбидонько,
Тэпло: ни витру, ни хмар.
Я прыгорну тэбэ до свого сэрдэнька,
А воно палкэ, як жар!
Песню слушала вся семья. А после, мама, заглянув в глаза дочери и прочитав в них то, что давно ей подсказывало сердце, произнесла:
- Готуй, дочко, рушныкы! Нэхай Иван прысылае сватив!
В ноябре, до начала Рождественского поста сыграли скромную свадьбу. Счастье молодожёнов чуть омрачалось тем, что отсутствовали элементарные условия, не позволяющие молодым в полной мере насладиться друг другом. Жили они в хате свекрови, у которой было ещё двое младших детей. Отец Ивана умер, когда сыну исполнилось пятнадцать лет.
Молодые люди сделали себе ширму, но то, что не видели глаза, слышали чуткие уши свекрови и братьев…
Спустя полгода после их женитьбы умерла бездетная тётка Ивана, которая жила на окраине города Луцка. О таких случаях говорят «Не было бы счастья, да несчастье помогло», так как Степанида с Иваном внезапно обрели свой собственный угол, состоящий из одной комнаты.
Нехитрый скарб из бытовых вещей, оставшийся в наследство, сразу нашёл применение в работящих руках новой хозяюшки. Иван устроился работать на железнодорожную станцию.
К этому времени, молодая пара уже знала, что у них будет ребёнок.
Они были счастливы. Радость, шутки, нежность, ласка, стали постоянными спутниками в скромном и уютном гнёздышке воркующих, как голубки молодожёнов. Но так же, как и небо над нами не может быть всегда лишь безоблачным и ясно-голубым, так и жизнь человека, каким бы счастливым он ни был, не может играть и переливаться только в одной, возвышенно-ясной тональности блаженства и удовлетворения.
«Любая радость находится под угрозой», - писал Камю.
И угроза пришла. Вернее, не пришла, а, как смертоносный вихрь, захлестнула мирно дремавшую в канун дня летнего солнцестояния страну. Война…
Молодой муж Степаниды, после бессонной ночи споров, просьб, признаний и слёз, одним из первых, не дожидаясь повестки, явился в военкомат. По-другому быть не могло!
Она готовилась стать матерью. Молодая женщина подолгу теперь стояла в углу комнаты перед образами. Она страстно молилась. Скорбная складка залегла между бровями, но её глаза были сухими. Она выдержит! Лишь бы её Иван вернулся невредимым! Лишь бы это всё оказалось только страшным сном!
Уже 25 июня город Луцк оккупировали фашисты. На улицах появились немецкие солдаты, начались расстрелы. В первую очередь жертвами становились евреи, коммунисты, комсомольцы, советские активисты, позже партизаны и семьи, им помогавшие.
В город ядовитыми змеями вползли горе, страх, ужасы погромов, несущие всё новые и новые беды.
Степанида, хотела, как они договорились с Иваном, переехать в деревню к родителям. Да как-то не успела. Пешком она не рисковала в такое неспокойное время отправляться в путь, а все надежды на попутный транспорт, с приходом гитлеровцев рассеялись, как дым.
У неё были очень славные соседи. Общая беда, ворвавшаяся в каждую семью, сплотила женщин. К Степаниде теперь чаще наведывались, то Вера, сестра местного дьяка, часто помогавшая прибираться в церкви, то Любаша – девушка почти одного с ней возраста, которая работала раньше продавщицей в небольшом магазинчике.
Она-то и принесла в её дом, спустя пять месяцев, ту невыносимо горькую весть, которая обрушилась на женщину с такой страшной силой, что отяжелевшая и грузная Степанида раненой птицей рухнула на покачнувшийся внезапно пол…
Ночью, пробираясь огородами, в окно дома, где жила Любаша, постучал обессиленный и до неузнаваемости исхудавший их дальний родственник Пётр. Он рассказал им ужасающую новость: муж Степаниды Иван был сражён вражеской пулей на поле боя. Сам же Пётр, раненный, но чудом уцелевший, под прикрытием ночи, добрался до ближайшего села. Там и нашла его в сарае пришедшая утром доить корову старушка, которая долго выхаживала раненого.
- Степанидушка! Милая! – откуда-то издалека взывала Люба, брызгая в лицо водой из кружки, - Что же я наделала? Господи Иисусе, помоги! – сокрушаясь, рыдала девушка.
Резкие толчки пронзили всё тело приходящей в сознание женщины невыразимой болью…
В этот сложный миг переплетения душевных и физических страданий и пришла в мир их крошечная девочка. То ли, под воздействием страшного психологического шока, то ли не были соблюдены необходимые правила гигиены, но на почти безучастную, находящуюся в полубреду женщину, обрушилось новое несчастье. Через двое суток перестало биться сердечко их младенца.
В комнате пахло ладаном. Время от времени приходили какие-то женщины, пытались кормить Степаниду с ложечки.
Молодая женщина осунулась, почти не разговаривала. Её пустой, блуждающий взгляд смотрел на мир равнодушно, с безнадёжной тоской. На вопросы сердобольных соседок отвечала односложно. А ведь шла война, и у каждой из них были свои горести. В семьи пришли нужда, голод, болезни. На улицах города то и дело раздавалось, режущее слух отвратительное слово «Хальт!», с наступлением вечера, начинался комендантский час.
Надо было как-то выживать. Через так называемую «биржу труда», Степанида получила назначение на работу.
(Продолжение следует)